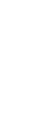75 лет назад на первой ассамблее ВОЗ депрессия впервые была признана болезнью на международном уровне. В 2023 году, по данным ВОЗ, депрессия диагностирована у 280 млн человек, в России, по последним оценкам, от нее страдает каждый десятый. К Всемирному дню психического здоровья, отмечаемому 10 октября, составили краткий путеводитель по депрессии в культуре: как человечество открыло беспричинную тоску и пыталось найти ей объяснения, как ее запрещали и превозносили, как она входила в моду и вызывала страх и как размышления о ней повлияли на философию, литературу и кино.
75 лет назад на первой ассамблее ВОЗ депрессия впервые была признана болезнью на международном уровне. В 2023 году, по данным ВОЗ, депрессия диагностирована у 280 млн человек, в России, по последним оценкам, от нее страдает каждый десятый. К Всемирному дню психического здоровья, отмечаемому 10 октября, составили краткий путеводитель по депрессии в культуре: как человечество открыло беспричинную тоску и пыталось найти ей объяснения, как ее запрещали и превозносили, как она входила в моду и вызывала страх и как размышления о ней повлияли на философию, литературу и кино.
Древний Египет: первые упоминания состояния, похожего на депрессию
В 1859 году берлинский Египетский музей опубликовал факсимиле папируса 3024 из своей коллекции, еще 40 лет ушло на то, чтобы его перевести и откомментировать. Текст оригинала, датированного XXII–XXI веками до н. э., сохранился лишь фрагментами, поэтому многие детали контекста и сюжета утрачены, но из сохранившегося ясно, что человек дискутирует с Ба (совестью и душой) о своем самоубийстве. Он чувствует острое разочарование в жизни: друзья оставили его, «зло поразило мир», людям нельзя доверять, к себе самому он тоже испытывает отвращение: «Отвратительно имя мое более, чем запах улова рыбы в день ловли под небом горячим». Единственный способ прекратить свои мучения, список которых довольно сильно напоминает симптомы депрессии, человек видит в том, чтобы лишить себя жизни и отправиться в загробное путешествие. Ба отговаривает его от этого поступка и советует получать удовольствие от жизни, а на загробную жизнь не рассчитывать.
К эпохе Древнего Египта относятся и первые собственно медицинские упоминания состояния, которое мы сегодня назвали бы депрессивным. «Когда его сердце страдает и вкусило печаль, оно закрывается, и тьма заполняет его тело из-за гнева, который пожирает его сердце» — так выглядит описание состояния, похожего на депрессию, в древнеегипетском папирусе Эберса. Эта самая крупная из древних медицинских энциклопедий датируется приблизительно XV веком до н. э. Описание закрытого сердца, пожираемого гневом, находится в разделе диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний и их причин. Одной из таких причин египетские врачи называли «грусть и угрюмость сердца», которые могли возникать из-за сглаза, плохой пищи и теплой воды и приводили к нарушениям работы сердца: «Когда сердце грустит, сосуды сердца закрыты настолько, что их невозможно распознать». Современные исследования установленную египтянами связь между депрессивными расстройствами и сердечно-сосудистыми заболеваниями, кстати, подтверждают.
Ветхий Завет и Гомер: депрессия как потеря божественного расположения
В Ветхом Завете приступам мрачного настроения, тоски и отчаяния был подвержен первый царь народа Израиля и основатель единого Израильского царства Саул. Эти состояния стали появляться у него после конкретных событий. Выбранный и помазанный на царство пророком Самуилом, которому на него указал Бог, Саул был добрым и справедливым правителем, одержал немало военных побед, жил скромно и выполнял все указания пророка. Но однажды перед очередным военным походом Самуил приказал Саулу в отмщение за нападение на евреев во время бегства из Египта истребить всех амаликитян, а Саул ослушался и некоторых пощадил. Разгневанный Самуил сообщил Саулу, что отныне тот потерял божественное расположение: «Ты отверг слово Господне — и Господь отверг тебя, отрешил от царства». С тех пор царя стал посещать «злой дух», мучивший его тоской и отчаянием, а снять приступы мог только будущий царь Давид игрой на арфе. От этой меланхолии Саул так и не оправился, а впоследствии, попав в окружение во время битвы с филистимлянами, совершил самоубийство, бросившись на собственный меч.
Как потерю божественного расположения похожие на депрессию симптомы описывает и Гомер в «Илиаде». Беллерофонт, сын Посейдона и царицы Коринфа Евриномы, совершил немало удивительных подвигов: обуздал крылатого коня Пегаса, убил Химеру и даже дерзнул подняться на Олимп к богам. Последнее вызвало кару богов: Зевс наслал на Пегаса оводов, тот стал брыкаться и скинул Беллерофонта на землю, где его настигло божественное проклятие: «Став напоследок и сам небожителям всем ненавистен, / Он по Алейскому полю скитался кругом, одинокий, / Сердце глодая себе, убегая следов человека». Истории Беллерофонта и Саула схожи: оба в разгар счастливой и успешной жизни без видимых на то причин вдруг погружаются в тоску и печаль, отказываются от прежней жизни или перестают получать от нее удовлетворение и предаются беспросветной грусти. И Гомер, и Ветхий Завет фиксируют это странное обстоятельство, но единственное объяснение, которое они могут ему дать,— это утрата милости богов.
Еврипид и Гиппократ: депрессия как болезнь тела
Как результат взаимодействия с богами симптомы депрессии описаны и в пьесе Еврипида «Орест» (408 год до н. э.), только возникают они не из-за непослушания, а, напротив, после выполнения божественного распоряжения. Аполлон приказывает Оресту отомстить за смерть своего отца Агамемнона и убить свою мать Клитемнестру. Орест выполняет приказ, но, несмотря на божественное разрешение, богини мести Эринии все равно начинают одолевать Ореста, изводя его страхом и тревогой. Электра ухаживает за братом и так описывает его состояние: «Не проглотил куска он, омовеньем / Ни разу кожи он не освежил. / Лишь, завернувшись в плащ, когда отпустит / Недуг его, опомнится и плачет… / А то порой, с постели соскочив, / Как лошадь, сбившая ярмо, сорвется». В своем монологе Электра объясняла происходящее с братом карой за убийство, но прямо называла его состояние болезнью, хоть и не давала ей название.
Между тем название у этого состояние появилось как раз на рубеже V и IV веков до н. э. Дал его древнегреческий врач Гиппократ. Его гуморальная теория предполагала, что все процессы в организме человека регулируются четырьмя жидкостями (кровью, слизью, желтой желчью и черной желчью), а все болезни вызваны дисбалансом этих жидкостей. В числе заболеваний, связанных с черной желчью, наравне с дизентерией и высыпаниями на коже, он называл меланхолию — буквально разлитие черной желчи. Гиппократ считал, что такие симптомы, как отвращение к пище, уныние, бессонница, раздражительность и беспокойство, связаны с распространением по организму человека черной желчи, от которой в том числе страдает и мозг: «Именно мозг делает нас безумными и исступленными, от него все огорчения, печаль, недовольства, бессонница, ошибочные действия, бесцельная тревога и странные поступки. От него мы становимся безумными, нас охватывает тревога и страхи ночью или с наступлением дня».
Аристотель: меланхолия как обратная сторона успешности
Аристотель поддерживал учение Гиппократа о роли четырех жидкостей в функционировании человеческого организма и тоже считал, что они влияют на характер и поведение. В канонических текстах философа, впрочем, упоминаний о меланхолии мало. Аристотель пишет, что людям с разлитием черной желчи требуется постоянное лечение, и отмечает, что меланхолики обладают образным мышлением, развитой интуицией и богатым воображением. Гораздо подробнее меланхолия, ее причины и воздействие на человека разбираются в одном из эпизодов так называемых «Проблем» — сборнике философских и этических вопросов и ответов, ранее приписываемом Аристотелю, но, по всей видимости, написанном его учениками.
Проблема под номером 30 в этом сборнике сформулирована так: «Почему все, кто стал великим в философии, политике, поэзии и искусстве, страдают меланхолией?». В ответе на этот вопрос гуморальная теория Гиппократа соединяется с учением Платона о мании — божественном безумии, которое может давать человеку творческую энергию, дар прорицания, чувство влюбленности или вызывать разрушительное поведение. Причины меланхолии оказываются тут заключены не в самом факте преобладания черной желчи в человеке, а в ее особенностях: если она слишком холодная, человек может быть ленив, труслив и обладать тупым умом, если горячая — он будет склонен к активности и неосмотрительности, страдать от приступов ярости и обладать острым умом. При нормальной температуре человек с большим количеством черной желчи обычно умнее и успешнее остальных в политике, науке и искусстве, стоит желчи охладиться (причиной может быть пища, смена сезонов или врожденная предрасположенность), как он впадает в уныние, нагреться — становится более продуктивным. Не только в интеллектуальных занятиях, но и, например, в разрушительной ярости или неконтролируемом эротизме — такому нагреванию, утверждалось в тексте, был подвержен Геракл, в один из таких моментов убивший своих сыновей.
Цицерон: меланхолия как болезнь души
И для Гиппократа, и для Аристотеля меланхолия была в первую очередь болезнью тела: именно его поражала черная желчь и через него воздействовала на душевное состояние. Возникало это поражение в результате работы природных сил, и с самим человеком связано особо не было. Но к концу I века до н. э. этот взгляд стал меняться, и одним из первых эти изменения зафиксировал Цицерон.
Интерес к депрессивным состояниям у него был не досужий — судя по всему, римский политик сам сталкивался с ними не раз. Особенно тяжелый эпизод случился в 45 году до н. э., когда в родах умерла его дочь Туллия. Убитый горем Цицерон бросил все свои политические дела и на несколько месяцев уехал на виллу в Тускуле, где написал трактат «Тускуланские беседы» — очень личный текст, посвященный размышлениям о смерти, природе душевной боли и горя и способам их преодоления. Разделяя недуги на болезни тела и болезни души, Цицерон отмечает, что забота о теле к его времени «давно уже стала наукою», тогда как исцеление души «чаще кажется людям сомнительным и опасным». Причину этого он видит в том, что физическую боль человек чувствует душой, но душевную болезнь не чувствует телом, а потому может судить о ней лишь тогда, когда сам орган суждения уже болен. Попутно он спорит с традицией считать единственной причиной меланхолии черную желчь: «словно ум мутится только от черной желчи, а не от гнева, или от страха, или от боли». По Цицерону, причина болезни души именно в сильных эмоциях и чувствах: «Страх и скорбь возникают от мыслей о зле. Именно страх есть мысль о великом зле предстоящем, а тоска — о великом зле уже свершившемся». Найти выход из этих переживаний можно в философии, а если оставить такое состояние без внимания, можно потерять рассудок.
Первые христиане, Данте и Чосер: меланхолия как грех
И в Древнем Египте, и в Греции, и в Риме меланхолические состояния не подвергались осуждению, напротив, признавая мучения человека, философы и врачи скорее сочувствовали ему и предлагали в помощь различные лекарственные средства и философские упражнения. Однако с приходом христианства взгляд на меланхолию стал меняться.
В центр внимания ранних богословов попало такое явление, как акедия. Само слово пришло из греческого языка и изначально использовалось в значении безразличия к необходимости захоронить тело умершего родственника, однако со временем распространилось на равнодушие к физической и душевной деятельности вообще и стало рассматриваться как один из симптомов меланхолии. В религиозном тексте это слово впервые использовали в III–I веках до н. э. в греческом переводе 119-го псалма: «Уснула душа моя от акедии». А на практике жертвами этого состояния стали первые христианские отшельники: уходившие в пустыню монахи испытывали вялость, заторможенность мысли, утрату надежды на спасение, пренебрежение к молитве и делам. Первым теоретизировал это явление в конце IV века византийский богослов Евагрий Понтийский. В своем учении о восьми помыслах он связывал акедию с бесовским искушением и называл ее одним из самых тяжелых для монахов испытанием, заставляющим их порой бросать служение. Первые богословы считали акедию исключительно явлением монашеской жизни и оценивали по-разному: кто-то называл ее наказанием за грехи, кто-то — собственно грехом. Именно последний взгляд в конце концов и закрепился. В латинских переводах акедию стали заменять на «лень», подразумевая лень души, в таком виде это состояние вошло и в списки смертных грехов, став частью жизни мирян и приравняв пониженное настроение, апатию и другие симптомы меланхолии к непростительному греху. За потерю интереса к жизни и уныние страдают грешники, названные «accidiosi», в «Божественной комедии» Данте. Они располагаются в пятом кругу ада, рядом с гордецами (они же — гневливые), утопают в Стигийском болоте и шепчут странникам: «Мы были скучны, полны вялым дымом; / И вот скучаем, втиснутые в грязь». Джефри Чосер в «Кентерберийских рассказах» описывает «accidia» как отчаяние и апатию и называет это состояние грехом против Святого Духа.
Дюрер и Фичино: меланхолия как свойство гения
Очередное переосмысление меланхолии пришло с Ренессансом. Самое знаменитое произведение эпохи, посвященное этому явлению,— гравюра Альбрехта Дюрера «Меланхолия» (1514). На ней изображен печальный ангел (вероятно, автопортрет художника), вокруг которого разложены предметы, связанные с наукой и зодчеством: циркуль, книга, сфера, линейка, рубанок, весы, песочные часы и проч. Менее известна работа другого немецкого художника на эту же тему — картина «Меланхолия в саду жизни» (1558) Маттиаса Герунга, также изображающая меланхолию в виде ангела, по всей видимости пришедшего к закончившему работу космографу (ученому, изучающему Вселенную). Связь меланхолического состояния с творческой деятельностью и научными поисками на картинах этих художников не случайна — Возрождение отказывается от христианской концепции меланхолии как греха и предпринимает попытку модернизировать античные подходы к проблеме.
Одним из главных теоретиков здесь оказывается итальянский священник и философ Марсилио Фичино. Приступы меланхолии мучили его с юности, советы богословов вести активную религиозную жизнь не помогали, и Фичино решил исследовать эту проблему самостоятельно. Результатом стала теория, изложенная в монументальном труде «Три книги о жизни» (1489), в которой Фичино попытался развить не терявшую актуальности гуморальную теорию и аристотелевскую концепцию (приписываемые ему «Проблемы» приобрели в это время невероятную популярность). Как и автор «Проблем», Фичино также полагал, что меланхолическому состоянию подвержены в большей степени творческие люди, и предлагал свое объяснение. От крови, утверждал он, исходит дух, благодаря которому работают мозг и душа. У творческих людей этот дух расходуется быстрее, из-за чего кровь густеет, а продуцируемый ею дух портится — и вместо того, чтобы обеспечивать работу души и мозга, отравляет их, делая человека мрачным, замкнутым и унылым. А происходит этот перерасход потому, что у творческих людей активнее работает черная желчь, которая тоже выделяет свой дух — способствующий тяге к познанию. Проблема оказывается не только в том, что для этой повышенной тяги к познанию не хватает ресурсов крови, но и в том, что ее в принципе невозможно удовлетворить — рано или поздно любой жаждущий познания человек сталкивается с разочарованием, неспособностью полностью понять божественный замысел, «тоской по небесам». Благодаря Фичино, чьи труды пользовались крайней популярностью, меланхолия стала расцениваться как непременный спутник гениальности и таланта, без которого невозможны ни творчество, ни великие открытия.
Шекспир и Бёртон: меланхолия в ассортименте
Самый известный шекспировский меланхолик, конечно, Гамлет. Образ датского принца в точности соответствовал описанию меланхолии, каким его давали английские врачи конца XVI — начала XVII веков: мрачность, ум и красноречие в сочетании со спутанным сознанием, одержимость навязчивыми мыслями, склонность к сильным эмоциям, тяга к смерти и т. д. Вопрос о меланхолии явно занимал в этот период Шекспира: не ограничившись трагедией, он осветил эту проблему еще и в комедии — написанной примерно в те же годы «Как вам это понравится». Один из ключевых ее героев — меланхолик Жак — формально антагонист шута, но, в сущности, его двойник. На протяжении пьесы он сопровождает происходящее горькими комментариями. Именно ему принадлежит знаменитый монолог «Весь мир — театр», и с тех же театральных позиций он рассказывает о природе меланхолии, утверждая, что у разных людей меланхолия имеет разное происхождения: у музыканта она проистекает из вдохновения, у воина — из честолюбия, у законоведа — из политической хитрости, у женщины — из жеманности, а у него самого — просто из размышлений о жизни. Меланхолия оказывается тут одной из форм социального поведения, что, по-видимому, отражало распространенность этого явления в европейской культуре в этот период. Перестав быть эксцессом и достоянием избранных, меланхолия стала постепенно становиться нормой.
Об этом же свидетельствует колоссальный труд младшего современника Шекспира ученого Роберта Бёртона — опубликованная в 1621 году «Анатомия меланхолии». Это было что-то вроде энциклопедии, в которой было собрано все, что когда-либо писали о меланхолии философы, писатели, врачи, богословы и ученые, начиная с Гомера, описаны все использовавшиеся когда-либо средства борьбы с нею и десятки случае своего рода клинических наблюдений за меланхоликами. По Бёртону, у меланхолии было около 100 возможных причин и примерно столько же возможных симптомов: «Они не регулярны, не ясны, разнообразны до бесконечности. Протей не так многолик, как проявления меланхолии». Определенно было лишь одно: меланхолия может прийти к любому живому человеку, от нее не свободен «ни стоик, ни мудрец, ни счастливец, ни щедрый, ни терпеливый, ни благочестивый». Вместе со множеством обличий меланхолия вскоре получила и новое имя — депрессия (от лат. deprimo — подавить). Впервые его использовал историк Эдвард Филлипс: в приложении к «Хроникам королей Англии» (1676) он писал о «сильной депрессии духа» попавшего в плен к шотландцам генерала. Окончательно закрепил депрессию как синоним меланхолии литературный критик Сэмюэл Джонсон, на равных употреблявший оба слова для описания своего состояния в дневниках 1753 года.
Гёте и романтики: мода на меланхолию
«Все приятное в жизни основывается на правильном чередовании явлений внешнего мира. <…> Чем открытее наши сердца для этого наслаждения, тем счастливее мы себя чувствуем. Но если нескончаемая череда явлений проходит пред нами, мы же от нее открещиваемся и остаемся глухи к сладостным зазываниям, тогда приходит зло, тягчайшая болезнь вступает в свои права, и жизнь представляется нам бременем». Такие размышления в 1811 году Иоганн Вольфганг фон Гёте оставил в своих мемуарах, сопроводив их двумя почти анекдотическими историями: «Рассказывают, что один англичанин повесился оттого, что ему наскучило ежедневно одеваться и раздеваться. Я знавал прекрасного садовника, однажды он с досадой воскликнул: “Неужто же мне всю жизнь смотреть, как дождевые тучи плывут с запада на восток!”». За три года до этого Гёте опубликовал «Фауста» — трагедию, в завязке которой страдающий от опостылевшей жизни и невозможности удовлетворить свою тягу к знаниям профессор предпринимает попытку самоубийства. Фауста удается спасти, в отличие от другого героя Гёте, для которого отвращение к жизни оказалось фатальным,— юного Вертера. Устав от светской жизни, юный дворянин едет в деревню, но и жизнь вблизи природы не спасает его от тоски. И мироздание, и собственные чувства кажутся ему бессмысленными: «С вечера я предполагаю полюбоваться на восход солнца, но не могу подняться с постели, днем я намереваюсь насладиться лунным светом — и не выхожу из комнаты. Мне и самому непонятно, почему я встаю, почему ложусь спать». Разочарованный и несчастный, Вертер совершает самоубийство. Гёте не называет состояние Вертера меланхолией, и тем не менее это произведение сыграло ключевую роль в ее распространении: после выхода «Страданий юного Вертера» Германию захлестнула волна самоубийств, а сама меланхолия стала модным явлением.
В ее популяризации немалую роль сыграли и романтики. Кольридж и Байрон воспевали меланхолию, видя в ней «проклятый дар», способствующий творчеству. Джон Китс в «Оде меланхолии» (1819) призывал не оказывать сопротивления, а отдаться ей, «испив до дна ее чистый взор». Там же, впрочем, Китс предостерегал читателей от попыток искусственно вызвать это состояние. Для таких опасений были основания: среди аристократии в тот период популярностью пользовались разнообразные средства для возбуждения меланхолии — от разных отваров и чтения грустных стихов до вполне экзотической моды на «декоративных отшельников». В живописном уголке сада строили хижину и нанимали крестьянина в качестве живой декорации: в античной тоге или завернутый в шкуру он сидел в задумчивости, глядя на череп, песочные часы и другие символы меланхолии. Для наемных отшельников работа порой оказывалась слишком тяжелой, и они сбегали, но хижины не пустовали — иногда в поисках меланхолии туда приходил пожить и сам хозяин поместья.
Гегель, Кьеркегор, Сартр: философия меланхолии
Философская мысль XIX века не слишком ценила счастье и душевное благополучие. В «Лекциях по философии истории» Гегель высказывался по этому поводу так: «Всемирная история не есть арена счастья. Периоды счастья в ней — пустые листы, потому что они являются периодами гармонии, отсутствия противоположности». В развитии как отдельного человека, так и всего человечества важную роль играло осознание своего несчастья: «Несчастье должно стать страданием человека в самом себе: он должен почувствовать себя отрицанием самого себя, он должен понять, что его несчастье есть несчастье его природы». Это состояние Гегель не называет меланхолией, но описывает ровно в тех же терминах — как утрату идеалов и период скорби по умершему богу. Без осознания своего несчастья невозможен и переход к периоду счастья.
Страстный критик гегельянства Сёрен Кьеркегор тоже настаивал на необходимости осознания несчастья, но видел в этом состоянии самостоятельную ценность. Уже в первой опубликованной работе «Или — или» (1843) он признается в любви к меланхолии и называет ее своей «верной наперсницей». Там же, рассуждая о фазах человеческого существования, он вводит категорию отчаяния — осознание предела определенного подхода к жизни. В философии Кьеркегора подчинение меланхолии, отказ от противостояния несчастьям является формой освобождения, открывающего новый взгляд на мир. Философия начинается с отчаяния, утверждал Кьеркегор, и 100 лет спустя эти идеи были развиты философами-экзистенциалистами. Роман «Тошнота» (1938), ставший манифестом новой философии, Жан-Поль Сартр первоначально назвал «Меланхолия», и опыт его главного героя действительно напоминает ее симптомы, вначале он даже оценивает свое состояние как некую болезнь: «Эта штука выявилась как болезнь, а не так, как выявляется нечто бесспорное, очевидное. Она проникла в меня исподтишка, капля по капле: мне было как-то не по себе, как-то неуютно — вот и все». Однако, как и у Кьеркегора, это состояние в результате оказывается не болезнью, а единственным возможным способом подлинного существования — признав свою беспомощность и ограниченность, герой благодаря этому обретает новую свободу.
Кафка и Фрейд: депрессия как самоистязание
«Я распростерт на полу, нарезан будто на жаркое и рукой медленно толкаю кусок мяса собаке в углу. Эти фантазии являются ежедневной пищей моего ума» — так описывал свое состояние в 1913 году Франц Кафка в письме Максу Броду. Насилие над телом, его трансформации занимают важное место в его творчестве. В «Превращении» (1912) главный герой переживает трансформацию в насекомое, в «Голодаре» (1922) безымянный цирковой актер изводит себя голодом до смерти. Причины этого Кафка не описывает, да они ему и не важны, его интересует сама механика этих трансформаций, их смысл — желание исчезнуть, рассыпаться, как высохшее насекомое, быть скормленным собаке, истончиться до смерти, просто перестать существовать. Это уже не то принятие депрессии, которого требовал Кьеркегор, это попытка максимально полно прочувствовать отвращение к себе.
В 1917 году Зигмунд Фрейд написал эссе «Печаль и меланхолия», где состояние отвращения к себе и самоагрессии получило концептуальное обоснование. Отличие меланхолии (или депрессии, Фрейд использует оба термина) от печали для него принципиально. Печаль — результат осознаваемой потери, меланхолия — потери бессознательной, о которой человек не догадывается и в которой не признается, при печали «беден и пуст» оказывается мир, при депрессии — само «Я». Не в силах выплеснуть агрессию и боль на предмет своей утраты, человек проецирует все это на самого себя. «Больной рисует нам свое „Я” недостойным, ни к чему не годным, заслуживающим морального осуждения,— упрекает и бранит себя, ждет отвержения и наказания» и наказывает себя отказом от пищи, бессонницей, преодолением влечения и другим саморазрушительным поведением.
Зощенко и Вулф: депрессия как объект изучения
Летом 1943 года журнал «Октябрь» напечатал две части повести Михаила Зощенко «Перед восходом солнца», но продолжения не последовало — советская цензура наложила на публикацию запрет, а сам писатель подвергся гонениям. Возмущение советской власти было вызвано тем, что повесть была посвящена вопросам душевного здоровья и борьбы с меланхолией, что представлялось не только несвоевременным в разгар народной войны, но и в принципе неуместным в стране победившего социализма. Зощенко, однако, утверждал, что его задачей было не наслаждаться депрессией, а победить ее, и для этого он решил ее изучить. С юности он был подвержен приступам тоски, был беспричинно несчастен, хандра преследовала его, медицина была бессильна, и он принялся самостоятельно искать лечение: изучал философские работы, читал Фрейда и Павлова, Толстого и Гоголя, Мопассана и многих других, сравнивал свой опыт с чужим, анализировал свои страхи и, в конце концов, почувствовал, что эта работа стала давать результат: он не то чтобы окончательно излечился, но изучение депрессии оказалось терапевтическим, и публикация повести, над которой он работал около 10 лет, должна была помочь его соотечественникам.
Зощенко был не единственным, кто попытался справиться со своей депрессией посредством ее исследования. Его современница Вирджиния Вулф, страдавшая от депрессии, использовала тот же метод. На протяжении своей жизни она вела дневник, где подробно фиксировала свое состояние: «Подумать только, люди продолжают жить; даже не представляют, что происходит внутри них. Одна лишь непроницаемая поверхность; а я орган, который принимает удары, один за другим»; «Я попыталась проанализировать свою депрессию — мой мозг измучен противостоянием критических и творческих мыслей; я утомлена борьбой, потрясениями и неопределенностью». «Делай заметки и боль пройдет»,— писала она в романе «Годы». Встретиться с болезнью лицом к лицу предлагал и Карл Юнг, давая этому методу психоаналитическое обоснование: «Если внутренняя ситуация не осознается, она реализуется вовне, как судьба». Единственный способ преодолеть это — обнаружить подсознательный конфликт и вывести его в реальный мир, а сделать это можно только анализируя и изучая себя.
ВОЗ, Хичкок и Плат: депрессия как диагноз
В 1948 году Всемирная организация здравоохранения официально назвала стойкое снижение настроения с сопутствующими негативными симптомами болезнью — «депрессивным расстройством». В 1952 году вышло первое «Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам», содержавшее этот диагноз. Клинический статус, однако, решительной ясности в отношения с депрессией не внес: медицина по-прежнему не знала толком, ни откуда она берется, ни как ее лечить. В этих условиях новый диагноз оказался пугающим, и это нашло отражение в культуре.
В 1958 году вышел один из самых известных фильмов Альфреда Хичкока «Головокружение». Его главный герой лечится от депрессии в клинике и так накачан лекарствами, что едва может пошевелить рукой. Актуальные методы лечения действительно вызывали страх: первые антидепрессанты и нейролептики давали тяжелые побочные эффекты, клинического опыта их использования было недостаточно. Немедикаментозные методы были еще страшнее. Главные героини фильмов «Женщина под влиянием» (1974) Джона Кассаветиса и «Интерьеры» (1978) Вуди Аллена попадают в клинику, где им приходится пережить опыт электросудорожной терапии: героиня Кассаветиса возвращается домой еще более травмированной и опустошенной, а героиня Вуди Аллена сразу после выхода из больницы повторяет попытку самоубийства. Безуспешная борьба с депрессией и попытки ее лечения подробно описаны в автобиографическом романе Сильвии Плат «Под стеклянным колпаком». Методы лечения тут тоже довольно варварские: помимо электросудорожной терапии Плат лечили инсулинокоматозной терапией, искусственно вызывая гипогликемию высокими дозами инсулина, но роман заканчивается оптимистично — героиня чувствует, как к ней возвращается жизнь. Для самой Плат лечение оказалось неэффективным, через несколько месяцев после публикации романа она покончила с собой.
Вуртцель: депрессия как норма
В 1994 году в США вышли мемуары журналистки Элизабет Вуртцель «Нация прозака». Вуртцель в этот момент было всего 27 лет — не слишком типичный возраст для издания автобиографической книги, но ей было чем поделиться с читателями. Депрессия началась у нее в подростковом возрасте и постепенно усугублялась, к окончанию колледжа Вуртцель была совсем ею измотана, с трудом вставала с постели, подсела на психостимуляторы и предприняла попытку самоубийства. Ничего эффективного врачи не могли ей предложить, пока один психиатр не решил попробовать только что появившийся на рынке антидепрессант прозак — и тут жизнь Вуртцель постепенно стала меняться: «Мне стало комфортно в своей коже. Это случилось само собой. В одно утро я проснулась и на самом деле хотела жить, <…> без чувства ужаса, без ощущения, что меня может довести до самоубийства первый же человек, что наступит мне на ногу где-нибудь на Гарден-сквер. Как будто миазмы депрессии ослабили свою хватку и мягко отпустили меня». Критики сочли «Нацию прозака» слишком откровенной — автора обвиняли в нарциссизме и желании привлечь к себе внимание, но читателей эти нюансы не интересовали: желающих узнать об опыте победы над депрессией оказалось предостаточно — книга стала бестселлером.
В 2017 году Элизабет Вуртцель написала для переиздания «Нации прозака» новое послесловие, в котором констатировала: эпоха стигматизации и демонизации депрессии и ее лечения позади, но стыд все еще останавливает многих от разговора о болезни, и это необходимо менять: «Ты болен, пока об этом никто не знает. Как только я стала делиться своими чувствами, я обнаружила, что стала обычной. Я стала такой же, как все. Если что-то происходит со мной, то, значит, и с тобой что-то происходит».